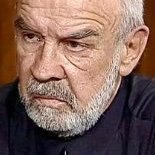- 12 ответов
- 3965 просмотров
- Добавить ответ
- 3 ответа
- 2808 просмотров
- Добавить ответ
- 133 ответа
- 21659 просмотров
- Добавить ответ
- 2 ответа
- 3526 просмотров
- Добавить ответ
- 10 ответов
- 3746 просмотров
- Добавить ответ
- 5 ответов
- 3760 просмотров
- Добавить ответ
- 1 ответ
- 1653 просмотра
- Добавить ответ
- 42 ответа
- 4804 просмотра
- Добавить ответ
Жестокий и Разбойный феодальный мир

Выкладываю отрывки из одноименной главы классического труда французкого историка Ашиля Люшера «Французское общество времен Филиппа-Августа» ,посвященную нравам Средневековья и показывающая сильную разницу между популярным ореолом романтичного средневековья и его реальной действительностью. Примечательно, что ситуация показана на примере средневековой Франции, стране классического «эталонного» феодализма.
ЖЕСТОКИЙ И РАЗБОЙНЫЙ ФЕОДАЛЬНЫЙ МИР
Почти повсюду владелец замка был грубым и хищным солдафоном — он воюет, сражается на турнирах, проводит мирное время в охоте, разоряет себя мотовством, душит поборами крестьян, грабит соседние замки и разоряет церковные владения. В начале XIII в. монахи аббатства Сен-Мартен-дю-Канижу составили нескончаемый список преступлений, совершенных руссильонским кастеляном Поном дю Берне. Сей знатный муж был настоящим разбойником:
Он разрушил нашу изгородь и увел одиннадцать коров. Ночью он вторгся в наши владения Берне и срубил фруктовые деревья. На следующий день он схватил и привязал в лесу двух наших слуг, отобрав у них три су и десять денье. В тот же день на нашей ферме Эга он снял с Бернара из Моссе рубаху, штаны и башмаки. В другой раз он убил двух коров и ранил четырех на ферме Коль-де-Жу и унес все найденные им сыры. А однажды он заставил людей Риаля откупиться за пятнадцать су, и они были в таком ужасе, что отдались под покровительство Пьера Дюмоле посредством единовременной уплаты пятнадцати су и ежегодной ренты в один ливр воском. В Эгли он захватил пятьдесят пять баранов, осла и троих детей, которых соизволил отпустить только за выкуп в сто су, забрал одежду, рубахи и сыры; он вторично отобрал у Пьера из Риаля рубаху, у Бофиса — ремень и нож, у Пьера Амана — две накидки, шубу и скатерть… И, поклявшись вместе со своим отцом в церкви Святой Марии Вернеской, что оставит в покое аббатство, он похитил у наших людей в Авидане восемь су и семь кур и принудил нас откупить берег Одилона, проданный нам его отцом… Он увел у нас из Берне скот, более пятисот баранов, и захватил четырех человек, которым, к счастью, удалось бежать. Затем он схватил двух людей из Одилона, потребовав с них выкуп в пятнадцать су, и один из них все еще в плену.
Этот Пон дю Берне просто тиранил местное население, однако и феодалы более высокого ранга в той же горной области вели себя точно так же, разве что их поле деятельности было шире, а добыча значительней. Один из самых любопытных документов, касающихся этой темы, — завещание графа Руссильонского Гинара от 1172 г., то есть незадолго до начала правления Филиппа Августа. В нем отражается весь феодальный мир, сознающийся в смертный час в своих грехах и старающийся их искупить, возместив ущерб своим жертвам. Почти все статьи завещания составлены по одной и той же формуле. Вот наиболее выразительные из них:
Церкви и жителям Палестра за убытки, причиненные мною, я возвращаю 2 000 мельгорьянских су.
Людям Сере за злодеяния, от коих они претерпели, — 1 000 мельгорьянских су.
Людям Канде, у которых я увел их скот, я возвращаю 100 мельгорьянских су.
Пьеру Мартену, перпиньянскому купцу, за ущерб, нанесенный ему одним вором, я возвращаю 150 мельгорьянских су».
Очевидно, граф Гинар поимел из украденного свою долю.
Людям Виллемолака — 1 000 су, жителям Каномаля — 300 су, людям Морея — 500 су, людям Булона — 500 су, людям Доманова — 1 000 су, жителям Божи — 100 су…
Это далеко не полный перечень. Но вот точная и недвусмысленная исповедь:
За грабеж Пона де Навага в той мере, в какой участвовал в этом я (proparteatrociniPontiideNavagaquamegohabui), я возвращаю 1000 мельгорьянских су и хочу, чтобы сверх этой суммы раздали бедным 100 новых рубах.
Более ясно признаться в том, что граф Гинар Руссильонский был причастен к доходам воровской шайки, невозможно. Маловероятно, чтобы эти руссильонские сеньоры, документы о которых к нам случайно попали, были и впрямь исключением из правил. Мы не говорим, что так поступала вся знать их края — ибо достойные люди существовали во все времена и во всех странах — но такими были многие представители их сословия. Перенесемся в другие концы Франции, и мы увидим ту же картину. В Берри в 1209 г. сеньор де Деоль, а в 1219 г. — сеньор де Сюлли уличены в ограблении купцов, и Филиппу Августу пришлось вмешаться и сурово их наказать. Знатные бароны, феодальные властители грабят не меньше, чем простые владельцы замков. Виконт Лиможа Ги У не стеснялся посылать своих воинов на рынки за товаром, не платя за него, и велел бросать в темницу тех, кто пытался оказывать сопротивление. Герцог Бургундский Гуго III, вечно не сводивший концы с концами, на деле — тоже обычный разбойник с большой дороги: он грабит французских и фламандских купцов, проезжающих через его владения, что стало одной из причин, заставивших Филиппа Августа в 1186 г. предпринять поход в Бургундию.
Феодальный мир продолжал жить грабежом; он разбойничал, обирал купцов и путников, взимал с крестьян и горожан фьефа незаконные поборы и чрезвычайные пошлины, и подобные вещи происходили повсюду. К разбою вооруженному он добавил обирание арендаторов и зависимых крестьян, воровство сеньориальных служащих. Вне сомнений, во многих местах подобные бесчинства за столетие уменьшились; некоторые города, бурги и даже деревни получили или купили гарантии, хартию, контракт. Сеньор, наконец, начал понимать, что средство извлечения денег из своего фьефа заключается не в опустошении его вымогательствами и превращении в пустыню. Однако далеко не везде знать мыслила таким образом, и если существовало множество мест, огражденных от самоуправства надлежащим способом оформленными актами, то гораздо больше было тех, у кого таковых свобод не было и которые сеньор обирал как хотел. Города нашли способ защиты, но как сопротивляться деревням? Собственность и жизнь крестьян в мирное время были не в большей безопасности, чем во время войны.
В связи с этим нужно обратиться к смелой обвинительной речи против феодальных вымогательств знаменитого проповедника Жака де Витри, адресовавшего свои обличения князьям и рыцарям, proceres et milites:
«Все, что крестьянин собирает за год упорным трудом, рыцарь, благородный человек, пожирает в час. Не довольствуясь платой воинам за счет крестьян, не довольствуясь своими доходами и ежегодным чиншем, взимаемым со своих подданных, он еще обирает их незаконными податями и тяжкими поборами. Бедняка изматывают, выколачивая из него плоды его трудов и пота многих лет».
Особенно осуждает проповедник пресловутое право «мертвой руки». Он яростно восстает против знати, ворующей наследство покойников, имущество вдов и сирот: «Отец умер, а сеньор уводит у несчастных детей корову, которая могла бы их прокормить. Люди, пользующиеся правом мертвой руки — убийцы, ибо они обрекают сироту на голодную смерть; они подобны червям, поедающим трупы». В другом месте он сравнивает знать с волками, а их приспешников и служителей — с вороньем: «Подобно тому как волки и шакалы пожирают падаль, а вокруг каркают вороны, дожидаясь своего участия в пиршестве, так обирают своих людей бароны и рыцари, а прево, сборщики налогов и прочее адское воронье радуется возможности подобрать остатки». И метафоры, все более и более выразительные, сменяют друг друга: «Сии сеньоры, не работающие и живущие трудами бедняка, походят на грязных паразитов, вгрызающихся в мясо, точащих его и питающихся тем, что служит им убежищем». «Прево не менее алчны, чем их хозяева: они душат поборами и душимы в свою очередь. Их называют пиявками, ибо они высасывают кровь нищих и извергают ее сеньорам, более могущественным, чем они». Какую только форму не принимает эксплуатация бедного народа сеньорами и их присными! Они изыскивают средства обложить налогами буквально все, и Жак де Витри, дабы развлечь своих слушателей и привлечь их внимание, рассказывает следующий анекдот:
Однажды один бальи, служащий какого-то графа, желая угодить своему хозяину, говорит ему: «Сеньор, если вы изволите мне поверить, я предоставлю вам возможность зарабатывать каждый год определенную сумму денег». — «Охотно», — отвечает граф. «Позвольте же мне, сеньор, продавать солнце на всей протяженности вашего фьефа». — «Как, — отвечает граф, — можно продавать солнце Господа?» — «Очень просто: многие ваши люди отбеливают полотно и оставляют его сушиться на солнце. Даже если они будут давать вам только по 12 денье за каждый кусок полотна, вы заработаете много денег». И вот так сей дурной слуга подвигнул своего сеньора к продаже солнечных лучей.
Жак де Витри неистощим, рассуждая на тему фискальных способностей могущественных людей и нищеты угнетаемых; он чувствует, что именно здесь коренится глубокое зло феодального общества, и пытается припугнуть виновных: «Вы были прожорливыми волками, — говорит он им, — а посему скоро завоете в аду». Но для тех, кого недостаточно пугает перспектива вечных мук, у него есть другой, по-человечески более близкий, основанный на опыте аргумент: «Великим следует полюбить малых; пускай поберегутся внушать к себе ненависть. Не след презирать обездоленных: ежели они могут прийти нам на помощь, то так же точно могут и причинить нам зло. Вам известно, что многие сервы убили своих хозяев и сожгли их дома».
Ни один проповедник или обличитель этого периода средневековья не обрисовал с большей точностью печальные последствия алчности благородного сословия и не клеймил феодальный разбой в более суровых выражениях. Витри сумел пойти дальше и, поговорив о жажде денег — главном пороке знати, показал нам ее страсть к сражениям и кровожадные инстинкты, хорошо объясняемые привычкой к грабежам и длительным войнам. В этом заключается вторая общая и отличительная черта феодального мира. И здесь, как во всем остальном, история доказывает, что проповедники нисколько не преувеличивали.
Вот, например, мелкий перигорский феодал Бернар де Каюзак, о котором рассказывает хронист Петр из Во-де-Серне. Настоящий зверь:
Его жизнь проходит в грабежах и разрушении церквей, в нападениях на паломников, в притеснениии вдов и бедняков. Особенно нравится ему калечить беззащитных. В одном монастыре черных монахов Сарла обнаружили сто пятьдесят мужчин и женщин, которым он повелел отрубить руки и ноги и выколоть глаза. Жена этого сеньора, такая же жестокая, как и он, помогала ему в пытках. Самой ей доставляло удовольствие мучить бедных женщин. Она приказывала отрезать им груди и вырывать ногти, чтобы они не могли работать.
Другой пример:
Один из военных товарищей Симона де Монфора, рыцарь Фуко, даже возмущался жестокостям, творимым воинами. Всякий пленник, не имевший средств заплатить сто су за свой выкуп, был обречен на смерть. Его бросали в подземелье и оставляли погибать от голода. Иногда Симон де Монфор повелевал притаскивать их полумертвых и бросал на глазах у всех в выгребную яму. Рассказывают, что из одной из своих последних экспедиций он возвратился с двумя пленными, отцом и сыном. Он заставил отца собственными руками повесить сына.
Превратить вражескую землю в пустыню — вот цель ведущего войну сеньора; и знать не прекращает воевать. Войны идут повсюду, ибо это занятие и ремесло знатного человека, и сам он прежде всего воин, предводитель отряда с соответствующими вкусами и привычками. Он не только любит войну, он живет ею. Вся его молодость проходит в подготовке к ней; вырастая, он посвящается в рыцари и ведет войну так долго, как только позволяют ему силы, до самой старости. Его дом — казарма, крепость, замок, служащий оружием нападения и защиты. Когда же по чистой случайности он пребывает в мире, то и тогда стремится предаваться войне воображаемой, сражаясь на турнирах, ибо мы увидим, что турнир — уменьшенная копия войны, дополнительная возможность сражения и получения добычи. Впрочем, несмотря на относительный прогресс общей культуры, невзирая на усилия духовенства, королей и некоторых знатных сеньоров, ставших государственными мужами, война практически на всей территории Франции была почти постоянным бедствием и нормальным состоянием тогдашнего общества.
Этот чудовищный и парадоксальный факт воспринимается с некоторым трудом. При нынешних миролюбивых привычках и нравах, в условиях опеки собственности и личности со стороны государства очень трудно вообразить себе страну вроде Франции времен Филиппа Августа, разделенную на провинции, жители которых представляли собой множество маленьких народов, враждебно настроенных по отношению друг к другу; сами провинции подразделялись на множество сеньорий или фьефов, обладатели которых не прекращали воевать; не только бароны, но и владельцы небольших замков вели замкнутый образ жизни, были вечно заняты враждой со своими сюзеренами, себе подобными или своими подданными; к этому надо добавить соперничество города с городом, деревни с деревней, равнины с равниной, войны между соседями, которые в те времена, кажется, самопроизвольно зарождаются даже от самого различия территорий с их обычаями.
Наследственные распри в рассматриваемую эпоху происходили во многих частях феодальной Франции, но самой знаменитой из них, самой длительной и разрушительной была борьба за графство Шампанское, оспаривавшееся графом де Бриенном у графини Бланки Шампанской и ее младшего сына Тибо IV. Распря продлилась четырнадцать лет, с 1213 по 1227 гг.; военные действия, как следствие ее, распространились не только на Шампань, но и на часть Бургундии, Иль-де-Франса и Лотарингии; в нее оказались вовлечены Папа, французский король, император и множество французских, бельгийских и немецких баронов. Это столкновение породило не только огромное число мелких войн и местных опустошений, но и две настоящих битвы, став предметом чрезвычайно сложных дипломатических переговоров и бесконечных судебных тяжб пред всеми возможными властями. Наконец, оно полностью расстроило феодальные связи, и вассалы переходили от одной соперничающей стороны к другой, исходя из собственных интересов, меняя сюзерена и оммаж с поистине забавной беззастенчивостью.
Вот чем на практике оборачивался знаменитый закон о феодальном вассалитете — основа всей системы держаний, государственного здания, которое представляется таким строгим и гармонично упорядоченным в юридических теориях XIII в. На деле же подобная вассально-сеньориальная связь была до прискорбия хрупка и непрочна; ее может разрушить пустяк, и достаточно было соперничества из-за любого пожалования или земельного дарения, удачно поднесенных денег, чтобы вассал сменил сюзерена и передал свой оммаж и действительную службу другой персоне.
Таким образом, к войнам родственников добавлялись войны вассалов с сюзеренами, не менее опустошительные и частые. Они наполняют всю историю Франции, ибо вассальные распри включают и борьбу Филиппа Августа против Плантагенетов и графов Фландрских, и ссоры самих Плантагенетов с баронами своих континентальных владений. Кроме того, они захлестывают и провинции, ибо во Франции того времени не было региона, который не стал бы театром военных действий вассала или лиги вассалов с сюзереном фьефа. Ссоры и вооруженные стычки являются фактически сутью жизни сеньора. Примеров подобного рода столько, что ни к чему доказывать очевидное, составлявшее каждодневную и нормальную жизнь наших владельцев замков и баронов. Не следует обольщаться видимостью — для вассалов сюзерен по сути враг; его уважают, когда он силен, и отказывают в службе или даже нападают, когда он слабеет. Сюзерен же, со своей стороны, уважает вассальную связь не больше.
Были еще и войны сеньоров с их собственными должностными лицами, служащими сеньории. Слово «служащий» вызывает представление об относительно старательном, преданном агенте, повинующемся и привязанном собственными интересами к дому и делам использующего его услуги государства. Но не так было в средние века. Сеньориальный служащий — сам мелкий кастелян, так же жадный до денег и земли, как и сеньор, и всячески стремящийся к независимости. Мы видели, что Жак де Витри говорил о феодальном служащем: пиявка, которой хозяин время от времени режет горло — операция трудная и часто насильственная. История доказывает, что проповедник не преувеличивал. Посмотрим, что происходило в 1203 г. в графстве Булонском. Сенешалем графа Рено де Даммартена являлся некий Эсташ Монах, плут, которого постигнет самая необычайная участь. Граф предупредил, чтобы сенешаль сохранил для него подати, взимаемые с управляемой им земли, и вызвал его для отчета. Эсташ, опасаясь очутиться в темнице, укрылся в большом булонском лесу. Рено же конфисковал имущество своего управляющего и сжег его имения. Эсташ не остался в долгу и при помощи свечей поджег две мельницы, причем именно в тот день, когда граф праздновал свадьбу одного из своих фаворитов. Между сенешалем и его сеньором началась ожесточенная война. Эсташ убивал коней графа и калечил его слуг. Однажды его схватили и бросили в темницу, но он сбежал и, пройдя через ущелье, отправился предлагать свои услуги Иоанну Безземельному и англичанам.
Наконец — ибо материал неисчерпаем, а надо заканчивать — войнами знати не всегда двигал лишь материальный интерес: при таком пылком темпераменте, при крайней обидчивости этих людей, у которых грубость в крови, а гнев тут же выплескивается наружу, достаточно пустяка — жеста, слова, непристойной шутки, чтобы началась вражда, переходящая в бесконечную вендетту. Сбор вассалов в войско или ко двору сюзерена являлся, в частности, поводом для ссор, часто серьезных и сопровождавшихся кровавыми стычками по возвращении в их владения. В жесте о Гарене Лотарингском мы находим весьма выразительную картину бурных ссор между баронами при королевском дворе на глазах у самого короля. Несмотря на запрещение суверена, рыцари с обеих сторон — лотарингской и бордоской — сбиваются в кучу и, бросая друг другу в лицо самые грязные оскорбления, переходят к драке.
Гарен наносит сильный удар кулаком по голове Фромону, и тот, оглушенный, падает на землю. Тогда бордосцы покидают свои места и бросаются на помощь своему сеньору. Образуется настоящая свалка: все таскают друг друга за волосы, пускают в ход ноги, кулаки и зубы, и все пред глазами короля, которого никто не хочет слушать. Но в момент высшего накала потасовки граф Ардрский спускается по ступеням и бежит в свое жилище. У изголовья постели он хватает стальной клинок, возвращается во дворец, закрывает все выходы из него и появляется перед лотарингцами, оледеневшими от ужаса. Пятнадцать рыцарей падают, смертельно раненные
С лотарингской стороны появляется Эрне Орлеанский, который в свою очередь набрасывается на бордосцев.И тогда началась настоящая бойня. Рыцари наперебой преследуют бордосцев, пронзенных, искалеченных, изрубленных. Раненые прячутся под столами в надежде спастись. Тщетные усилия: их настигают, вытаскивают из укрытия и приканчивают. Это сражение при королевском дворе стало отправной точкой длительной войны между бордосцами и лотарингцами.
Если феодалы так часто сражаются друг с другом, то не больший мир царит между ними и остальным обществом. Междоусобные войны многочисленны, как и войны социальные. В средние века социальные группы очерчены гораздо резче, классовая ненависть бесконечно более горяча и стойка, чем в Новое время. С одной стороны, страсти тогда были сильнее, нравы грубее, а с другой — различные социальные группы были разделены более высокими и труднопреодолимыми барьерами. Знатный человек испытывал к простолюдину, то есть (мы берем это слово в наиболее понятном смысле) серву, крестьянину, работнику, горожанину безграничную антипатию и глубокое презрение. Можно легко привести сотню отрывков из жест, где это презрение выплескивается в ярких и образных выражениях. Порой говорится о простолюдинах, которым удалось покинуть свое сословие и вступить в воинское сообщество, достичь рыцарского звания; но поэт никогда не забывает в связи с этим вложить в уста своих благородных персонажей негодующие протесты
Разумеется, в реальной жизни превращение простолюдина в рыцаря уже иногда случалось, особенно у французов Юга, где пропасть между сословиями была менее глубока; но в целом это редкость и исключение из правил. Знатный человек рассматривал всякого простолюдина — зависимого либо более или менее свободного, члена городской общины — как низшее существо, которое можно обирать и убивать без зазрения совести.
Поучительными в связи с этим являются многие эпизоды Альбигойских войн. Не только религиозный пыл вдохновлял рыцарей крестового похода на борьбу против впавших в ересь горожан, но и презрительное отвращение этой северной знати к простолюдину, существование которого в их глазах совершенно никчемно. Этим, например, объясняются ужасы разграбления Марманда в 1218 г. «Крестоносцы, — говорит историограф Филиппа Августа, — перебили всех горожан с женщинами и малыми детьми, всех жителей, числом до пяти тысяч». Но они пощадили графа Астарака, руководившего защитой города, и всю знать, участвовавшую в ней. Правда, если знатный человек ненавидел горожанина и безжалостно давил его, то последний при случае воздавал ему тем же. В том же 1218 г. Гийом де Бо, принц Оранский, попал в руки жителей Авиньона, сочуствовавших альбигойцам. Горожане живьем содрали с него кожу, а затем порубили тело на куски.
Кажется, между знатью и Церковью должны были быть менее враждебные отношения. Ведь феодальный мир поставлял Церкви часть ее членов; многие аббаты, каноники, епископы принадлежали к знатным фамилиям, большое число прелатов, как мы видели, вело дворянский образ жизни, почти как в замке: они ездили на охоту и на войну, окружали себя рыцарями и воинами. Феодалы и духовенство в целом составляли привилегированный класс общества — класс земельных собственников. Между знатью и клириками, вернее, между светскими и духовными сеньорами было много общего, в частности, те и другие эксплуатировали низших одинаково жестоко.
И тем не менее они не только не понимали друг друга, но и часто воевали. Вражда дворянина и священника в ту эпоху (и, можно сказать, во все периоды средневековья) — один из самых бесспорных и очевидных фактов социальной истории. Феодалы как собственники и суверены завидовали духовенству, оспаривавшему у них права, доходы, десятины, патронаж над приходами. Они завидовали его землям и средствам, сосредоточенным в руках клириков благодаря набожности верующих. Нуждающаяся и транжирящая знать не любит церковников, соперничающих с ними в обладании собственностью, деньгами и бесконечно обогащающихся, ибо Церковь постоянно копит и никогда не продает, разве что очень неохотно. Бароны и владельцы замков рассматривали церковную сеньорию как неисчерпаемый источник добычи и проводили жизнь в разграблении земель монастырей, каноников, епископов, в общем, всех тех, кто не защищался или защищался недостаточно умело. Духовный сеньор оберегал как мог свое имущество, путем обращения к Папе, королю или герцогу, при помощи отлучения или с оружием в руках. Нет во Франции Филиппа Августа уголка, где бы знатный и клирик не боролись друг с другом. Короче говоря, для знати духовенство всегда было заманчивой добычей: это соперник и враг.
В этом нет никакого преувеличения, подобный вывод вытекает бесчисленных из исторических фактов, относящихся ко всем французским провинциям без исключения. Правдивость их в точности подкрепляется данными латинских источников и литературы на народном языке, сочинениями проповедников и церковных обличителей нравов, равно как и поэмами, составленными жонглерами на потеху рыцарям и владельцам замков. Спросим сначала у Церкви, что же она думает и что говорит о феодалах. К ним она настроена враждебно по двум главным причинам: прежде всего потому, что сама по своему существу олицетворяет принцип мира и общественного согласия, в отличие от знати; а затем, и в особенности, потому, что она является постоянной жертвой феодальной агрессии и разбоя. Она защищает от них бедняков по своему долгу, но прежде всего себя, свои права, собственность, богатства, беспрестанно находящиеся под угрозой. И этого достаточно, чтобы объяснить горечь и даже жестокость некоторых слов, исходящих из уст людей Церкви.
Остроумный архидьякон Петр Блуаский, современник Генриха II и Филиппа Августа, произнес необыкновенно горячую обличительную речь против феодалов и всего воинского сословия своего времени в целом. Кажется, никогда клирик не отзывался так дурно о воине. Одно из писем Петра адресовано его другу архидьякону, племянники которого были рыцарями и дерзко выражались в адрес духовенства.
Я не смог больше вынести, — говорит Петр своему адресату, — раздутого самодовольства ваших племянников: эти молодые люди осмелились превозносить военное сословие над церковным, клевеща на нас, противопоставляя нам свой образ жизни и деятельности. Допустим, наше ремесло в упадке, но и их ремесло в этом отношении не более возвышенно. Им неведомо, кто такие рыцари и что такое рыцарство, иначе они отступили бы пред духовенством и держали бы свой дерзкий язык за зубами сообразно их возрасту. Рыцарский порядок сегодня! Да ведь он — сама беспорядочность! Кого в военных отрядах считают самыми сильными и достойными уважения? Того, кто больше всех говорит гнусностей, грубо оскорбляет служителей Божьих, хуже всего обращается с ними, кто менее всех почитает Церковь… С тех пор как ваши племянники переняли образ жизни своих соратников по оружию, они приобрели отвратительные замашки. Чем стало ныне военное искусство, столь хорошо изложенное Вегецием и столькими другими авторами? Его больше не существует; ныне это — искусство предаваться всяческим бесчинствам и вести безалаберную жизнь. Некогда воины клятвенно обязывались защищать государство, не бежать с поля битвы, жертвовать собой ради общественного интереса. И ныне наши рыцари получают свой меч из рук священника, чтобы почитать сынов Церкви, служить своим оружием защите священства, покровительству бедным, преследованию злодеев и спасению отечества. Но на деле они поступают совершенно наоборот. Едва они опояшутся мечом, как набрасываются на Распятие Господне, на наследие Христово. Они обирают и грабят подданных Церкви, третируют нищих с беспримерной жестокостью, стремясь в горе другого обрести удовлетворение своих ненасытных аппетитов и необычайного сладострастия. Святой Лука рассказал нам, как солдаты, подойдя к святому Иоанну Крестителю, задали ему такой вопрос: «Учитель, а мы, что же будет с нами?» — «Вы, — ответил святой, — уважайте имущество другого, не причиняйте вреда своему ближнему и довольствуйтесь своим жалованьем». Наши нынешние солдаты, которым бы использовать свою силу против врагов креста и Христа, употребляют ее для состязания в распутстве и пьянстве, проводя свое время в ничегонеделании, чахнут в гульбе; беспутной и грязной жиз нью они бесчестят свое имя и ремесло.
Мы не можем привести письмо целиком, потому что, следуя обычаю своего времени, Петр Блуаский в каждой строке уходит от темы, цитируя Священное Писание и светских авторов. Подкрепляя свои высказывания множеством текстов, он напоминает, каким был римский солдат, говорит о его воздержанности, стойкости, трудолюбии, и сравнение с современным рыцарем далеко не в пользу последнего. Сатира становится все более и более ядовитой:
Сегодня наши воины погрязли в наслаждениях. Посмотрите, как они выступают в поход: разве их вьючные лошади нагружены оружием, копьями и мечами? Да ничуть не бывало; в избытке — вином, сырами и вертелами для жарки мяса. Можно подумать, что они отправляются пировать, а не сражаться. Они несут великолепные позолоченные щиты, надеясь привезти их назад в целости. На их доспехах и седлах изображены сцены битвы, и этого им вполне достаточно — других они видеть не хотят... Ах! Они весьма горазды похищать наши десятины, неуважительно относиться к Церкви и духовенству, смеяться над отлучением, не боясь Бога, издеваться над священниками, отбирать у Церкви то, что даровано ей щедротами их отцов! Они забывают, что Бог сказал Своим служителям: «Кто презирает вас, тот презирает Меня, и кто ранит вас, тот ранит зеницу ока Моего»
Что же касается мнения феодалов о Церкви, то оно доступно нам лишь косвенным образом.
Прежде всего мы можем судить о нем уже по самому их поведению по отношению к духовенству. Неопровержимо доказано, что владельцы замков проводили жизнь в разграблении церковных доменов, в беспощадной войне с аббатствами, капитулами и епархиями, где персоне священника оказывалось не больше уважения, чем его собственности; что они с удовольствием отбирали церковные сокровища и даже не стеснялись сжигать монастыри и церкви, отделываясь потом покаянием. Вне сомнений, подобные люди должны были испытывать к прелатам и монахам весьма ограниченное уважение и симпатию.
Конечно, нельзя отрицать наличие у этих вояк религиозного чувства — оно проявляется во внешнем отправлении культа, почитании реликвий, основании аббатств, паломничествах к святым местам и ненависти к еретикам. Но религиозное чувство знати обострялось преимущественно во время болезни или с приближением смерти — это была вера, вызванная угрызениями совести и страхом, вера неустойчивая, весьма хорошо уживающаяся в обычное время с недостатком уважения к святым предметам и лицам священнического сана.
Впрочем, обратимся к жестам. За отсутствием письменных свидетельств, оставленных самой знатью, они являются единственными документами, выражающими непосредственно ее мнения. Автор эпопеи подобного жанра, написанной для знати, именно ее и выводит на сцену, разделяя, понятно, полностью ее суждения и предрассудки. Он взирает на мир глазами воина, глубоко презирающего все невоинственное, уважающего и понимающего только военные дела, беспокойную жизнь лагерей и замков. Одним словом, в жесте преобладает подчеркнутый и оживляющий ее феодальный дух, дух грубости и насилия, враждебный к простолюдину, дерзкий и мятежный даже по отношению к королю и, добавим, пренебрежительный к духовенству. Ибо — отметим бесспорный факт — в эпопеях вроде «Гарена Лотарингского» или «Жирара Руссильонского» Церковь — могущественная в средние века власть — играет приниженную и неприметную роль.
Клирики и монахи годятся лишь на то, чтобы служить капелланами или секретарями баронов, которым они читают и составляют письма, или чтобы подбирать павших на полях сражений, перевязывать раненых, служить мессы тем, кто им платит. Рыцари используют этих клириков, особенно монахов, но испытывают к ним весьма небольшое уважение. Один из героев «Песни о Жираре» — Одилон — обращаясь к своим воинам, объявляет им, что «ежели отыщется среди них трус, я отправлю его в монахи, в монастырь». В «Песни об Эрве де Меце» один из рыцарей восклицает: «Всем этим жирным монахам, всем этим каноникам, священникам и аббатам следовало бы стать воинами. Ах! Вот если бы король отдал их мне!»
Что же касается главы Церкви — Папы, то феодальной эпопее, написанной современниками Филиппа Августа, никак нельзя было полностью умолчать о персоне, управлявшей в ту эпоху всем христианским миром и отдававшей приказания королям, как смиреннейшим из подданных. Папа занимает свое место в жестах, но место на заднем плане, весьма незначительное по сравнению с тем, какое он занимал в реальной жизни. Понтифику даже не принадлежит Рим, он — едва ли суверен, это скорее второстепенный персонаж, появляющийся в свите императора или французского короля, где он выглядит не более чем знатным владельцем замка(.. )рыцарская эпика незаслуженно умалила и принизила великую фигуру церковного главы, возвышавшегося в средние века.
В общем, феодальный ум презирает священника — миролюбивого и ленивого, он питает неприязнь к Церкви, проповедующей добродетели, противоположные рыцарским достоинствам. А кроме того, знатный человек завидует ее богатствам, чувствуя себя как бы обделенным всем тем, что дано клирику.
Вражда светских и церковных сеньоров разгорелась во всех провинциях и почти во всех округах. Ибо не было во Франции города, где бы граф не соперничал и не конфликтовал с епископом или капитулом; а в средние века от столкновения до применения силы всегда недалеко. Не было деревни, в которой донжон замка не представлял бы угрозы соседнему монастырю. От верха и до низа всей феодальной лестницы мы видим одно и то же: владельцы замков стараются отобрать у клириков их земли, доходы, права, людей или, по крайней мере, живут грабежом церковных имений и сокровищ, собранных в святилищах благочестием верующих. В низших слоях рыцарского сообщества нуждающийся дворянин считает, что клирик и монах чрезмерно богаты, и нападает на них, обирая. В высших сферах знатные бароны жалуются, что их политический и судебный авторитет ущемлен церковными трибуналами и светской властью прелатов, и сражаются с духовными властями, чтобы ограничить их распространение.
Не следует рассматривать эту борьбу излишне узко и ограниченно. Бесспорно, документы свидетельствуют о широчайшем и повсеместном разбое, которому предаются на церковных землях знатные и мелкие сеньоры, но в конфликтах барона и епископа, как и в стычке горожанина с клириком, следует видеть также и первое проявление оппозиции мирского духа, первые протесты гражданской власти против религиозного авторитета. Внизу мы наблюдаем «подвиги» владельца замка, силой проникающего в амбар и кладовые монахов, грабящего их сервов, похищающего их скот и возвращающегося к себе после набегов. Наверху же — знатные французские сеньоры, сплотившиеся вокруг Филиппа Августа (как, например, в 1205 году), чтобы воспротивиться распространению церковной юрисдикции и ограничить политические и финансовые притязания папской власти. В обоих случаях — война с Церковью, но второй представляет для нас больший интерес.
Церковь защищается, зачастую успешно, от всевозможных нападений. Не следует думать, исходя из жалоб проповедника Жака де Витри, что Церковь всегда была безоружной и безропотной жертвой феодального насилия. Она обороняется и при помощи светской власти, коей обладает, и призывая на помощь короля и Папу, и посредством отлучения. В начале XIII века оружие отлучения не настолько притупилось, как иногда любят утверждать. Сеньоры того времени уже, разумеется, легче переносили отлучения и интердикты. Они уже привыкли к ним понемногу и сопротивляются много лет, прежде чем покориться, но на большом количестве примеров известно, что в конечном счете они приносили повинную. Все еще горячо верующий, барон мог вынести личное отлучение, но заставить своих подданных смириться с интердиктом было много труднее.
И ежели знать привыкала к анафемам, то в том была определенная доля вины самой Церкви, обрушивавшей их сверх всякой меры. В своих внутренних конфликтах церковники отлучали и друг друга по далеко не всегда серьезным мотивам, но под предлогом защиты от мирян они прямо-таки злоупотребляли этим оружием. В каждый год правления Филиппа Августа мало кто из крупных сеньоров не понес наказания в виде интердикта или отлучения. Достаточно просмотреть хроники, епископскую переписку, особенно переписку Пап, картулярии епархий или аббатств: в них только и говорится, что об отлученных баронах, земли которых находятся под интердиктом. Список их бесконечен — в него входят все или почти все французские сеньоры, не исключая короля, герцогов и владетельных графов. Прежде всего, это доказывает немыслимое число преступлений и насилий феодалов, но равным образом и слишком легкое отношение Церкви к отлучениям, что пришлось признать и Папам, обязав духовные власти соблюдать большую умеренность.
План «Барбаросса» против Советского Союза – превентивный удар?

Интереснейшая статья немецкого историка посвященная вопросу о привентивном нападении в немецкой историографии. Как видны причины этого явления банальны и и не презентабельны. Читать всем.
План «Барбаросса» против Советского Союза – превентивный удар?
К вопросу о попытках оправдать нападение Германии на СССР в 1941 году
Герд P. Убершер
Вплоть до 1980-х гг. не только в исторической науке, но и в немецкоговорящих средствах массовой информации существовало прочное убеждение, что решение Гитлера о нападении на Советский Союз летом 1941 г. было закономерным следствием его идеологической программы, где речь шла о завоевании «жизненного пространства на Востоке». Этот вывод был результатом многих исследований[1]. В продолжение разгоревшегося в Германии летом 1986 г. «спора историков» об истоках и сопоставимости нацистских преступлений[2] [с другими, известными истории. – Н.Д.] СМИ консервативного толка неожиданно попытались истолковать нападение вермахта на СССР 22 июня 1941 г. как превентивную войну[3] . Эти усилия попали в тон существующему с 1945 г. устойчивому интересу, с которым в научных исследованиях и публицистике относятся к событиям, связанным с планом «Барбаросса», – так условно называлась немецкая военная операция по захвату СССР[4].
Газетные статьи и сообщения нашли у читателей живой отклик, ведь решение Гитлера летом 1941 г. напасть на Советский Союз может – по своим результатам – считаться важнейшим внешнеполитическим решением, принятым в ходе Второй мировой войны. Политические последствия нападения на СССР 22 июня 1941 г. – нападения, нарушившего существовавший договор, – можно проследить ещё и сегодня. Германо-советские военные действия с 1941 по 1945 гг. существенно изменили политическую карту Европы. Назвал же биограф Гитлера Иоахим Фест в своем обширном биографическом исследовании приказ Гитлера о нападении на СССР «последним и наиболее важным из тех самоубийственных решений»[5], которые характеризуют гитлеровскую внешнюю и военную политику.
Возобновление дискуссии по поводу превентивной войны таит в себе опасность, что укрепится неверное представление о военной политике национал-социалистов и тем самым сотрутся границы между серьезными исследованиями, посвященными плану «Барбаросса», и апологетической литературой. Необходимо поэтому сразу указать на опасности, которые могут возникнуть в результате ошибочных установок в объяснении прошлого. Новейшие попытки оправдания немецкого наступления на Восток между тем оцениваются в стране и за рубежом как «опасная кампания» и очень резко комментируются, что показал состоявшийся в конце марта 1987 г. в Эссене Интернациональный симпозиум Фонда им. Йозефа Вирта[6]. И потому эти попытки заслуживают особенного внимания и требуют соответствующих уточнений.
До сих пор факты советско-германской войны ни в исторических исследованиях, ни в публикациях серьезных немецких СМИ не оспаривались. Все были согласны, «что в июне 1941 г. не началась превентивная война, а Гитлер приступил к реализации своих собственных, идеологически мотивированных планов. Они включали в себя, разумеется, и традиционные цели политического господства»[7]. Руководствуясь планом «Барбаросса», в 1941 г. Третий рейх напал на Советский Союз, несмотря на то что с августа 1939 г. между Москвой и Берлином существовал Пакт о ненападении. Затем национал-социалистская Германия вела против СССР политически, экономически и расистски мотивированную войну на уничтожение. Далее, исторической наукой на основе проведенных исследований широко признано, что неоднократно возникавший вопрос о мотивах Гитлера, побудивших его летом 1940 г. принять решение о войне против Москвы, нужно рассматривать в контексте долгосрочных и принципиальных политических целей Гитлера по завоеванию для Германии мирового господства. В результате исследований историков Герхарда Вайнберга, Хуго Тревор-Ропера, Эберхарда Йэккеля, Акселя Куна и Андреаса Хильгрубера внешнеполитической программы Гитлера, его военных целей и «стратегии» всеми было признано, что замысел «фюрера» напасть на Советский Союз ни в коем случае нельзя объяснить монокаузально, исходя [только. – Н.Д.] из политической ситуации военного 1940 года. Oн должен рассматриваться в рамках разработанной еще до 1933 года «Восточной программы» по завоеванию «жизненного пространства на Востоке»[8].
Дальнейшие исторические исследования[9] доказали, что нападение на Советский Союз было программно обосновано и последовательно ориентировано на догматичное следование целям и намерениям, сформулированным в общих чертах уже в двадцатые годы в рамках расовой и территориальной политики (Rassen- und Lebensraumpolitik) Гитлера на Востоке. Нападение на СССР было хорошо обдуманным решением Гитлера, к этой цели он всегда стремился – со времен его книги «Майн Кампф» (1925) и его же «Второй книги» (1928) это была главная цель его внешнеполитических амбиций[10]. Намеченного плана Гитлер придерживался и после своего прихода к власти в январе 1933 г. Уже в своем обращении к генералитету рейхсвера в феврале 1933 г. он подтвердил намерение захватить «жизненное пространство на Востоке». По результатам исследования историка Андреаса Хильгрубера, внутри «Восточной программы» Гитлера можно выделить четыре комплекса политико-экономических целей или мотивов национал-социалистского режима, из-за которых была развязана война против Советского Союза:
– уничтожение «еврейско-большевистского» управленческого слоя и вообще евреев в Восточной и Средней Европе;
– завоевание колониального и жизненного пространства для Третьего рейха;
– значительное сокращение и подчинение славянских народов немецкому господству в специально создаваемых так называемых «рейхскомиссариатах»;
– создание автаркичной, экономически независимой «крупной территориальной единицы» континентальной Европы под властью Гитлера. При этом завоеванные советские территории образовывали бы дополнительные экономические пространства и обеспечивали бы континентальное господство Германии, чтобы в конце концов привести ее к достижению более отдаленной цели «мирового господства»[11].
Кельнский историк Андреас Хильгрубер, умерший в 1989 г., в своeм основательном исследoвании о стратегии Гитлера пришел, далее, к выводу о том, что, говоря о «нападении Гитлерa на Советский Союз, не может быть и речи о превентивной войне в общепринятом смысле этого понятия, т.е. понятия, обозначающего военные действия, которые предпринимаются в отношении противника, готового к наступлению, путем нанесения встречного упреждающего удара»[12]. Те или иные попытки отмахнуться от ранних программно-целевых установок Гитлера как не являющихся решающими для войны против Сталина[13] и вместо этого представить сложную в военно-стратегическом отношении ситуацию и якобы «агрессивную» внешнюю политику Советского Союза летом 1941 г. главной причиной войны на Востоке могли быть уже в шестидесятых и семидесятых годах быстро опровергнуты на основании известных историкам источников и ключевых документов о планах Гитлера. Эти попытки лишь в единичных случаях где-то на обочине науки находили своих сторонников[14].
Несмотря на все контраргументы, версия о том, что Гитлер решился на войну на Востоке из-за страха перед Красной Армией[15], находит в правоэкстремистских группировках особенно сочувственный отклик. Об этом можно судить и по многочисленным тиражам апологетических книг, которые, очевидно, по-прежнему имеют большой отряд читателей[16]. Так, уже пару десятков лет назад в газетах крайне правых и в неонацистских изданиях снова и снова возникали попытки оправдать, с одной стороны, войну Гитлера против СССР как оборонительную борьбу Европы против большевизма и одновременно оспорить, с другой стороны, противоречащий международному праву характер войны как войны на уничтожение еврейского и славянских народов. Иногда в виде читательских откликов эти легенды попадали в близкие к правительству специальные официальные журналы, как это случилось, например, с публиковавшимися безо всякого комментария письмами читателей в целом ряде номеров выходящего при поддержке Гамбургской высшей военной академии Бундесвера журнала «Европейское обозрение военного искусства и военная наука» за 1985 год [17]. Невзирая на то, что это противоречит фактам, там утверждалось, что «лишь благодаря немецким борцам с Россией» «вплоть до появления американцев и англичан Западная Европа была ограждена от коммунистической опасности». И это было наиважнейшим результатом действий немецких солдат во Второй мировой войне – гласят клишированные выводы подобных сообщений. О том, что вермахт вероломно напал на Советский Союз, при этом, конечно, не упоминается.
Новым в последнее время стало то, что с 1986 г. и консерваторы-демократы теперь перестали гнушаться «тезиса о превентивной войне», когда речь заходит о национально ориентированном образе истории. Это особенно четко проявилось в контексте обострившегося в 1986 г. «спора историков», в котором особую роль получило обсуждение советской диктатуры и политики Москвы, будто бы дающей возможность для сравнения и критерии для оценки немецкой диктатуры и ее проявлений[18].
Берлинский историк Эрнст Нольте усмотрел свяsзь между Освенцимом и Архипелагом ГУЛАГ, что, в свою очередь, сделало возможным оценить Холокост как всего лишь противодействие и результат психологически «стеснённого положения», а не как выражение политики немецкого превосходства в европейском культурном пространстве. Нольте высказал к тому же соображение, что Гитлер, может быть, с полным основанием сразу после начала войны в сентябре 1939 г. обращался с евреями как с пленными или должен был их интернировать, поскольку президент Jewish Agency Хаим Вайцманн заявил, что евреи в этой войне стоят на стороне западных держав и демократий против нацистской Германии. Попытки доказать «относительность» преступлений нацистского государства и поставить под сомнение особенный характер национал-социалистских актов насилия и массовых убийств встретили, разумеется, разного рода резкие возражения – и прежде всего франкфуртского социолога Юргена Хабермаса[19].
«Спор историков» вёлся очень остро, поскольку был связан с проблемой национальной идентичности немцев, отражающейся на их представлениях об истории. К дискуссии тотчас подключились и другие исследователи, полем деятельности которых были усиленные поиски позитивного и [одновременно. – Н.Д.] национально осмысленного исторического образа Германии.
Попытки оправдать немецкое нападение на Советский Союз в 1941 г. неслучайно возникли в контексте «спора историков». Bедь и до и после него обстоятельством, которое мешает поискам немецкой идентичности, было то, что война с Советским Союзом 1941 – 1945 гг. не может быть причислена к числу справедливых национально-оборонительных войн, как это делалось в расхожей [немецкой. – Н.Д.] военной литературе и в так называемых «Солдатских листках», которые специально поставлялись на Восточный фронт в 1944–1945 гг. Историки Эберхард Йэккель и Ханс Моммзен недвусмысленно указывали на эту связь во времени[20].
Формированию нового положительного образа немецкой нации мешает и доказанное исторической наукой особое функциональное значение, которое [для нацистской Германии. – Н.Д.] имело так называемое «окончательное решение еврейского вопроса» в Европе. Показательна в этом смысле письменная директива Геринга шефу госбезопасности обергруппенфюреру СС Гейдриху от 31 июля 1941 г. «осуществить все требуемые приготовления – организационные, документационные, материальные – для окончательного решения еврейского вопроса на европейской территории, находящейся под немецким влиянием» [21]. Эта директива была составлена в то время, когда нацистское руководство вместе с руководством вермахта в начатой войне против Советского Союза находилось на пике победной эйфории. Приказ Геринга о «проведении решительных действий по решению еврейского вопроса» в дальнейшем послужил Гейдриху основанием для созыва Ванзейской конференции, которая, однако, из-за военного поражения немецких армий под Москвой в декабре 1941 г. была перенесена на январь 1942 г.
Победное шествие вермахта по западным областям СССР в летние месяцы 1941 года обозначило поворотный момент в нацистской политике относительно еврейского населения: от преследований путем устранения из экономической жизни, экспроприации, дискриминации и изгнания – к физическому уничтожению. С сентября 1941 г. в Освенциме для убийства евреев и советских военнопленных стал применяться ядовитый газ «Циклон Б» на основе синильной кислоты[22]. Война против Советского Союза, с самого начала ведущаяся в соответствии заложенными в нацистской программе намерениями, дала Гитлеру шанс осуществить собственные расистские устремления и тем самым связанное с ними «фёлькишское» преобразование Европы. Уничтожение евреев, депортированных изо всех уголков Европы, было вовсе не следствием вынужденных мер, вызванных бедственным положением Гитлера, а составной частью расовой политики Гитлера, – как и запланированная экспансия на Восток [23]. Это были элементы одной программы. В этом отношении систематическое, планомерное, поставленное на поток убийство свыше 5 миллионов евреев в гетто и в лагерях смерти в Восточной Европе – один из компонентов ведения военных действий Германией во Второй мировой войне.
Эта взаимосвязь подтверждается заявлением Альфреда Розенберга, назначенного неофициально уже летом 1941 г. рейхсминистром занятых восточных областей, когда он на секретном заседании 18 ноября 1941 г. откровенно объяснял представителям нацистской прессы тесную связь войны на Востоке с уничтожением евреев, а также изложил следующую цель: «На этом Востоке [мы] одновременно призваны решить вопрос, который стоит перед народами Европы, – это еврейский вопрос. На Востоке живут еще около 6 миллионов евреев, и этот вопрос может быть решен только путем биологического истребления всего еврейства в Европе. Еврейский вопрос для Германии будет лишь тогда решен, когда последний еврей исчезнет с немецкой земли, а для Европы, – когда до самого Урала на европейском континенте не останется ни одного еврея»[24] . На фоне таких намерений легко подкреплямое фактами активное участие соединений вермахта и их командования в войне, направленной на уничтожение славян и евреев на Востоке, становится неоспоримым[25].
Следствием стремления некоторых историков установить непосредственную связь – «причинную связь» (Нольте) – между Освенцимом и ГУЛАГом может оказаться представление, будто взаимосвязь между массовым уничтожением европейских евреев и войной Гитлера на уничтожение за «жизненное пространство на Востоке» распалась. Да, некоторым хочется отвлечься от воспоминаний о преступлениях, совершенных немцами на захваченных территориях. От исторического бремени расистски мотивированной войны на Востоке быстрее всего освободиться, если представить приказ Гитлера о нападении на СССР – а также преступления Холокоста в Освенциме – как «вынужденную меру» и одновременно как страх перед потенциальным «азиатским нашествием»… Не заставил себя ждать особый интерес консервативной прессы к публикации тезиса о нападении Германии на СССР как «превентивном ударе» – она предоставила поборникам вновь ожившего немецкого пропагандистского тезиса широкие возможности для изложения их соображений.
Предпринятая в тени «спора историков» попытка истолковать немецкое нападение на СССР 22 июня 1941 г. как «превентивную войну» опирается как на возобновившиеся спекуляции вокруг военной политики Сталина, которые представил в своей книге «Война Сталина» (1985) философ из Граца Эрнст Топич[26] , так и на военно-технические выводы военного историка из Фрайбурга Иоахима Хофмана и советского эмигранта, бывшего офицера Генерального штаба Советской армии Виктора Суворова (он же Виктор Резун) о подготовке наступательной военной операции советских вооруженных сил против германского Рейха[27].
Объяснительная модель Топича, который и ранее выступал как консервативный противник – среди прочего – исследований мирного договора и конфликтов[28], завершается утверждением, что Вторую мировую войну «в ее политической сущности» следует характеризовать «как нападение Советского Союза» на великие западные демократии, «причем Германия и позднее Япония служили Кремлю лишь орудиями войны». Он приходит к абсурдному заключению: советское руководство «само спровоцировало» нападение Гитлера, «чтобы перед всем миром предстать жертвой “нападения”» [29].
Согласно точке зрения Суворова, которая была опубликована в том же 1985 г. в одном из английских военных журналов и позднее в книге «Ледокол», вышедшей в 1989 г., Сталин летом 1941 г. планировал напасть на Третий рейх. Может быть, не так категорично, но и Й. Хоффманн предлагает похожий тезис: в 1941 г. был использован последний шанс опередить агрессию Сталина, который запланировал нападение на Германию на 1942 г. По крайней мере, «от наступательной диспозиции Красной Армии и военных мер с советской стороны [исходила] в любом случае уже в 1941 г. серьезная стратегическая угроза»; советскую политику можно признать «неизменно агрессивной»[30]. Как спекуляции Топича, так и необоснованные предположения Суворова справедливо не получили научного признания. «Аутсайдерская» позиция Суворова, однако, консервативно ориентированным немецким СМИ особенно пришлась ко двору. Представленная [публике] под характерным заголовком «Война диктаторов» («Krieg der Diktatoren») в августе 1986 г., гипотеза о советском плане нападения на Германию в 1941 г. благодаря публикациям Суворова «встретила понимание»; для всех должно было стать очевидным, что летом 1941 года столкнулись два агрессора. Признание этой гипотезы могло бы в будущем оградить немцев от так называемого «особого чувства вины» в отношении Советского Союза, которое Москва до сих пор искусно использует в своих «внешнеполитических пропагандистских» целях[31].
Можно еще понять философа из Граца, который, «недооценив свои способности, просто ошибся»[32], но эта газетная статья демонстрирует опасную тенденцию и осознанное намерение из политических соображений переосмыслить историческое бремя гитлеровского плана «Барбаросса», – чтобы в конечном счете полностью освободиться от этого бремени. Совершенно очевидно, что старые образы врага хотят реставрировать для того, чтобы иметь возможность использовать призрак «азиатского нашествия» в историко-политических целях в рамках формирования национально осмысленного образа немецкой истории. Эта публикация в прессе вызвала бурную реакцию. Высказались как сторонники версии «превентивной войны», так и ее горячие противники[33]. Леа Рош, телеведущая и журналист, озабоченно комментировала изменение в осмыслении и интерпретации новейшего прошлого: «Уже совсем скоро мы услышим от этих господ, что нападение немцев на Советский Союз было чисто превентивной мерой: Гитлер просто опередил Сталина. Такова была уже стратегия защиты военных преступников на Нюрнбергском процессе. Я бы никогда не подумать, что эти страшилки будут снова извлечены из старого хламa» [34].
Эрнст Топич скоропалительно пришел фактически к тому выводу, который новейшие исследования «подкрепили, по крайней мере, косвенными, но вескими уликами, – что не только Гитлер хотел завоевать так называемое “жизненное пространство” на Востоке, но и Сталин готовил большое наступление»[35]. Подобным же образом, оставляя без внимания до сих пор общепризнанные результаты научных исторических исследований, делает заключение и консервативный публицист Герд-Клаус Кальтенбруннер: «Научно еще совсем не решено, нужно ли рассматривать начало русской кампании как “превентивную войну” или нет»[36]. Если сначала шла речь об утверждении возможного намерения Сталина наступать на Берлин в 1941-м, 1942-м или позднее на основании мнимых «косвенных улик, на которые следует обратить серьезное внимание» (Топич), то затем в официозных специальных журналах последовали статьи с примечательными пассажами о «психологическом ведении войны» и ее «психо-политических аспектах»[37], что имело своей целью характерное смещение акцентов. Одновременно говорилось не только о предполагаемом сталинском намерении развязать войну, но «главным образом о мотивах Гитлера», которые больше не хотели связывать с его расистской Восточной программой. Гитлер больше не был сознательным агрессором; он лишь реагировал на агрессивную политику Сталина и уж тем более не начинал давно задуманной и распропагандированной войны за «жизненное пространство на Востоке». С тезисом об «оправданном превентивном ударе» национал-социалисты превращались в спасителей Западной Европы от большевизма.
При такой точке зрения нежелательные результаты исследований оттесняются или просто не замечаются. Даже недавно опубликованные дневники Геббельса, признанные важным источником касательно круга идей и представлений Гитлера[38], не берутся во внимание как доказательство программно обусловленного решения Гитлера о нападении на Советский Союз. И уж совершенно несерьезными являются утверждения, что те историки, которые считают захватническую программу диктатора действительной причиной нападения на Советский Союз, действуют как «друзья Москвы». Однако вряд ли кого-то удивит, что такие дешевые выпады по-прежнему находят отклик в особых националистских кругах.
Следующий шаг – это ярлык «вредителя» или «клеветника», уже использованный в германских правоэкстремистских листках[39]. Подобные проклятия всегда охотно поддерживаются правым сектором политического спектра[40].
Не заставило себя долго ждать одобрение тезиса «превентивной войны» со стороны ветеранов войны и бывших участников Восточной кампании, а также бывшего председателя Национальной партии Германии (NPD) Адольфа фон Таддена в правоэкстремистском журнале «Нация и Европа», тем более что авторы из числа правых и реакционеров всё чаще совершали попытки актуализировать легенду о превентивной войне[41].
Задуманное тогда исправление [истории] вызывало сомнения, потому что в связи с повторным возникновением «тезиса о превентивной войне» нужно было, по мнению историка Михаэля Штюрмера из Эрлангена, «создать понятия» и «объяснить прошлое»[42], а не клеветать как на «промосковские» на исследования о германском нападении на Советский Союз, результаты которых до сих пор признавались. Консерваторы и авторы из числа «новых правых» – как, например, политолог из Бохума Бернхард Вильмс – симптоматично пытались понятие «антифашизм» определить негативно как «препятствующее идентичности» немцев[43]. Ученых, которые продолжали считать, что Гитлер и национал-социализм несут ответственность за развязывание войны Германии с Советским Союзом, в этом контексте полемически называли «антифашистами», а моральное осуждение преступлений нацистов против человечества – как, например, вероломное нападение на Советский Союз – рассматривали как «коллективное самоненавистничество», вредное для образа национальной истории.
Из-за смещения акцентов и бессознательных заимствований старых национал-социалистских пропагандистских лозунгов возникает опасность, что будет стерта граница между консервативной и правоэкстремистской позициями. Отличие консервативных от однозначно правоэкстремистских представлений оказывается тогда всё более «эфемерным»[44]. Эту опасность консерваторы уже ощутили. Гюнтер Гиллессен 25 февраля 1987 г. в своей второй статье, подводящей итог спору, подчеркнул, что он ни в коем случае не хотел в связи со спекуляциями вокруг предположительного нападения Москвы на Третий рейх поставить под вопрос факт германской агрессии или принять старый пропагандистский лозунг национал-социалистов о «превентивной войне»[45]. Напрашивается всё же вопрос: как поборники модифицированного «тезиса о превентивной войне» хотели обозначить их отличие от правого экстремизма и неуклюжей апологии Третьего рейха? Ведь их уже обхаживают в правоэкстремистских кругах и соответствующих СМИ как новых главных адептов старых нацистских тезисов[46]. Примечательно, как пишет историк Арно Клённе, что в постоянно увеличивающееся пространство полемики стали вовлекаться те, «кто еще совсем недавно считались экстремистами или были табуированы из-за их приверженности фашизму или национал-социализму». В этом отношении критерии сместились совершенно очевидно, считает A. Клённе, в пользу правых[47]. Сейчас уже можно посоветовать тем, кто оказался в «философской передней исторического фашизма», хорошо обдумать свое положение. Разумеется, большим разочарованием для защитников «тезиса о превентивной войне» оказались широко разрекламированные изыскания Эрнста Нольте о национал-социализме и большевизме как двух сторонах в «европейской гражданской войне 1917 – 1945 гг.»[48], так как для подтверждения своей теории о том, что германское нападение «было объективно обоснованной и неизбежной решающей битвой», Нольте не нашел никаких доказательств. Тем не менее, утверждает Нольте, вопрос о «превентивной войне» должен был снова всплыть, так как у Гитлера не было никаких идеологических причин вести мировоззренческую войну против СССР; это было, скорее, «следствием». Для Нольте же и этот вопрос «до сегодняшнего дня […] решен не до конца». Теория Нольте о плане «Барбаросса» как объяснимой упреждающей реакции на якобы постоянную советскую угрозу была отвергнута сразу как полностью несостоятельная и бездоказательная[49]. Кто предпринимает попытку оспорить до сих пор неопровержимые исторические факты, должен по всем правилам сослаться на новые, серьезные источники, которые бы могли подтвердить свой собственный новый взгляд на вещи. В случае с выдвинутым тогда «тезисом о превентивной войне» напрасно, однако, искать новые источники. Андреас Хильгрубер еще в 1982 г. с помощью предъявленных источников последовательно опроверг подобные «ревизионистские» интерпретации, назвав их «возвратом на раннюю стадию дискуссии», «которая могла считаться преодоленной уже почти двадцать лет назад»[50]. Вновь перепроверенное содержание нацистской пропаганды на истинность в отношении якобы превентивного характера нападения Германии на СССР в 1941 г., а также еще раз осуществленная всесторонняя оценка Восточной программы Гитлера, проведенная в рамках новейших исследований Вигберта Бенца об истребительном характере войны на Востоке и Бианки Пиетровой о советской внешней политике в 1940 – 1941 гг. в общем контексте национал-социалистской идеологии[51], подтвердили между тем несостоятельность тезисов Э. Топича, Й. Хоффманна и В. Суворова. В своей статье Пиотрова приводит доказательство того, что внешняя политика СССР до 1941 г., несмотря на общие великодержавные амбиции, была подчинена необходимости усиливать безопасность государства. В особенности она постоянно подчеркивает, что И. Хоффманн в качестве главного источника и доказательства сталинских наступательных намерений называет уже давно известную во всех ее различных вариантах, полученных из вторых рук, речь советского диктатора 5 мая 1941 г. перед выпускниками военных академий и что в связи этим[**] сделанные Сталиным заявления никоим образом «нельзя считать однозначно удостоверенными»[52]. И тогда и сейчас, следовательно, остается открытым вопрос, говорил ли Сталин в этом выступлении о наступательных намерениях или же об усилении обороноспособности страны в 1941 – 1942 гг.
Новые исследования Райнера Цительмана и Эберхарда Йэккеля о мировоззрении Гитлера и о его политических целях также подтвердили вывод о том, что «именно захват жизненного пространства на Востока является константой гитлеровской программы». В любом случае, считает Р. Цительман, нужно серьезнее отнестись к экономическим планам Гитлера[53].
Виктор Суворов, напротив, в своей книге «Ледокол», которая в 1989 г. была издана на многих европейских языках огромными тиражами, придерживается своего старого тезиса и называет Гитлера выгодным Сталину инструментом («ледоколом»), который, однако, своим «превентивным ударом» опередил кремлевского диктатора[54]. Его спекулятивные предположения натыкаются, однако, на возобновившуюся в науке резкую критику и неприятие[55]. Эрнст Топич также повторил в третьем издании своей книги (1990) и затем в следующем издании, вышедшем в якобы «переработанном и дополненном» виде в 1993 г., свои старые бездоказательные спекуляции, в то время как из опубликованной Дмитрием Волкогоновым биографии Сталина можно было узнать, что кремлевский диктатор отклонил предложения советского Генерального штаба о проведении собственной превентивной операции против замеченного стратегического сосредоточения и развёртывания гитлеровского вермахта, поскольку не хотел верить в возможность нападения Гитлера[56].
Интересным и одновременно показательным для отстаивания тезиса о «превентивном ударе» против наступательного развертывания войсковых соединений Красной Армии является следующее наблюдение: его сторонники полностью отказались от рассмотрения вопроса о том, предпринимали ли что-нибудь со своей стороны немецкие политики и военные, чтобы опередить Сталина, т. е. повлияла ли каким-то образом идея превентивного удара на процесс принятия решений немецким руководством. Поскольку никаких доказательств в подтверждение этому найти невозможно, [«ревизионисты» от истории] увлекаются более или менее смутными спекуляциями вокруг политики Сталина, а программные мотивы Гитлера в его войне против Советского Союза пытаются представить как несущественные или не имеющие значения. Что из этого получается, выглядит по меньшей мере странно: оказывается, немецкий диктатор, отдавая вермахту приказ о нападении на СССР, вел «превентивную войну», сам того, однако, не подозревая и не учитывая при принятии решения, а позднее он велел министру пропаганды Геббельсу распространить тезис о «превентивной войне»... В последнее время и австрийский военный историк Хайнц Магенхаймер, несмотря на то что он в своей оценке нападения на Советский Союз в целом близок к тезису о «превентивном ударе» и сам определяет немецкое вторжение 22 июня 1941 г. как «превентивное действие», подчеркивает, что замеченная лишь в последние недели перед нападением «значительная передислокация советских войск» не может быть признана основной причиной для принятия Гитлером решения о вторжении на территорию СССР[57].
Надо сказать, что обновленный и «модифицированный тезис о превентивном ударе» не вызвал научного резонанса. Лишенный всякой серьезной основы, он нe имел поэтому какого-то весомого значения собственно и в «споре историков». Этот тезис также не нашел отклика в серьезной историографии или у видных историков Второй мировой войне, о чем говорят многочисленные сборники с их статьями, которые были изданы по результатам многочисленных международных конференций, проведенных в связи с 50-летней годовщиной нападения Германии на Советский Союз. Статьи посвящены прежде всего интернациональным аспектам и особому характеру войны на Востоке, связанному с массовым убийством еврейского населения Европы[58]. Одновременно новые исследования Дмитрия Волкогонова, Владимира Карпова и Валерия Данилова, основанные на впервые обнаруженных источниках, приводят доказательства, что генерал Жуков, начальник советского Генерального штаба, вместе с маршалом Тимошенко, тогдашним наркомом обороны, 15 мая 1941 г., принимая во внимание военную ситуацию, приступили к разработке собственного плана наступления. Его содержанием было нанесение Красной Армией превентивного удара в связи с замеченной стратегической передислокацией и сосредоточением сил вермахта[59]. Значение этого документа, будто бы повлиявшего на военные планы Гитлера и объясняющего последующую передислокацию советских войск накануне 22 июня 1941 г., разумеется, часто переоценивают[60], поскольку Сталин строжайше запретил осуществление этого плана, желая избежать любых провокаций в отношении Берлина. Поборники обновленного «тезиса о превентивной войне» фактически оказались в изоляции. Однако в то же время они сохранили за собой место в консервативно ориентированных СМИ. Так что можно предположить, что под знаком «ревизионистских» усилий по созданию позитивного национального самосознания история Второй мировой будет и дальше использоваться кругами правых и консерваторов, чтобы реставрировать старый образ врага и страх перед Востоком. Очевидно, через возрождение антикоммунизма должна быть установлена особая [немецкая] идентичность. Для этого, пересматривая историю нападения Германии на СССР, хотят привести доказательство того, что Россия всегда была – и неизменно остается – оплотом злой «азиатчины». В условиях «ведения психолого-политической войны» вновь извлеченный на свет «тезис о превентивной войне» позволяет признать и такое намерение, но к исторической науке он не имеет никакого отношения.
Или кому-то захотелось войну Гитлера против Советского Союза, которую еще в 1963 г. Эрнст Нольте, подытоживая свои исследования, охарактеризовал как самую «чудовищную завоевательно-поработительную войну на уничтожение», какие только знала современная история[61], стилизовать задним числом под справедливую национальную оборонительную войну вермахта против «империи зла»? Значит, теперь эта война должна предстать в более мягком свете – подобно тому, как этого хотела нацистская пропаганда летом 1941 г. [62], – как «борьба» или «крестовый поход Европы против большевизма», и таким путем стать традиционным элементом национальной или западноевропейской идеологии? Извлеченный из старого сундука нацистской пропаганды «тезис о превентивной войне», без сомнения, относится к «новейшим извращениям нашей точки зрения на историю»[63], допущенным в попытке избавиться от ответственности за развязанную войну с Советским Союзом 1941 – 1945 гг. и иметь возможность создать национально осмысленную историческую картину. Герхард Хасс в своей статье, пересматривающей старые гэдээровские исторические представления относительно плана «Барбаросса», напомнил, какая важная связь существует именно между войной 1941 – 1945 гг. и «окончательным решением еврейского вопроса», если речь идет о причинах, побудивших Гитлера напасть на СССР[64].
Примечательно, что Фритц Беккер и Вернер Мазер в своих новейших публикациях также с завидной настойчивостью выдвигают на первый план версию, согласно которой война Гитлера против СССР велась одновременно ради всей Европы как оборонительная борьба против большевизма, чей диктатор Сталин планировал, по их мнению, на середину июля 1941 г. громадную наступательную операцию под кодовым названием «Гроза»[65]. С точки зрения Мазeра, своим планом «Барбаросса» Гитлер опередил Сталина с его запланированным нападением на Германию буквально на считанные часы. Но точные доказательства своим утверждениям Ф. Беккер и В. Мазер привести тоже не могут – превентивный план Жукова и Тимошенко в их случае не может служить доказательством. Вместо этого они просто игнорируют далеко идущие политические и идеологические планы Гитлера по завоеванию «жизненного пространства на Востоке». Оба автора пренебрегают или удивительным образом просто оставляют без внимания результаты серьезных научных исследований.
А Райнер Ф. Шмидт сталинские политические расчеты весны и начала лета 1941 г., напротив, определил как «ошибочную стратегию во всех случаях»[66]. Он исходит из того, что, несмотря на всеобщую лихорадочную деятельность, советский диктатор «неизменно придерживался максимы избежать конфликта», хотя после визита в Англию рейхсминистра Гесса он мог сделать вывод, что Лондон и Берлин могут за его счет договориться между собой, и руки Гитлера будут развязаны для войны против СССР, в которой он должен будет защищаться. И тем не менее Сталин «резко осадил» торопивших его военных, Жукова и Тимошенко, отклонил предложенный ими план и продолжил проводить политику умиротворения в отношении Гитлера. Симптоматично, что Э. Нольте, предпринимая усилия по «обелению» так называемых «ревизионистских» тезисов, в своей новой книге задается вопросом, «а не было ли германское нападение на Советский Союз, несмотря на захватнические и уничтожительные устремления Гитлера, в чем историки единодушны, – как констатирует Э. Нольте, – все же превентивной войной?»[67]. Вопрос, как уничтожительные устремления могут сочетаться с превентивным ударом, остается у него без ответа. Может, речь для Нольте идет лишь о том, чтобы постоянно ставить провокационные вопросы и не давать на них никаких ответов, числясь в первых рядах «ревизионистов»? Историческое бремя вероломного нападения Германии на СССР не может быть вытеснено никакими спекуляциями вокруг возможно когда-то наличествовавших долгосрочных наступательных намерений Сталина. Придерживаться вместо этого той точки зрения, согласно которой ответственность за эту ужасную войну лежит на Гитлере и его «Третьем рейхе», ни в коем случае не означает недооценивать роль Сталина и его бессовестной диктаторской политики в период Второй мировой войны или преуменьшать ужасы его режима террора, как это охотно без всяких на то оснований приписывают противникам «тезиса о превентивной войне». Речь идет о предостережении по отношению к механизмам вытеснения [исторической правды. – Л.П.] и попыткам оправдания [фашизма. – Л.П.], которым противопоставляется, по-видимому, малоприятное требование «не-забвения» и «не-вытеснения»[68].
Речь также идет о том, что необходимо признать реальность германского нападения на Советский Союз 22 июня 1941 г. и функциональную зависимость между Холокостом и планом «Барбаросса», чтобы не пытаться искать в пылу битвы при каждом вновь возникающем «споре историков» объяснения для якобы оправданного «превентивного нападения» германского вермахта на СССР или снова оживлять старую «ложь о необходимости защиты», как это сформулировал Вольфрам Ветте[69]. Поэтому абсурдно писать о приёмах представления ранней советской истории, если признать тяжёлую историческую ипотеку германского нападения на Советский Союз, по которой всё-таки по-прежнему приходится оплачивать долги – настолько огромно число жертв во Второй мировой войне. И потому хотелось бы – также и через прошлое – пройти путями примирения по «мостам взаимопонимания»[70]. Этой особенной задаче служит корректная передача знаний о подготовке Гитлера к нападению и национал-социалистской войне на уничтожение на Востоке, а также об их «идеологических и общественных корнях», тем более что за этим стояла большая часть немецкой господствующей и управленческой элиты[71]. Подобным образом необходимость осмысления «вытесненной истории вины немецкого народа перед народами Советского Союза» была подчеркнута в тезисах к новому «Восточному меморандуму» евангелической церкви в Германии. Это является следствием ясного осознания доказанного историческими исследованиями факта: «Война против Советского Союза планировалась и велась как всецело захватническая и была войной на уничтожение»[72]. Это признание также отчетливо прозвучало, например, в многочисленных сопроводительных проектах и в общей концепции берлинской выставки 1991 года «Война против Советского Союза 1941 – 1945 гг.», проведенной в связи с 50-летней годовщиной нападения Германии на СССР[73]. Аргументы в пользу «тезиса о превентивной войне», напротив, фатально напоминали нацистскую военную пропаганду 1941 г., но даже и тогда они не соответствовали историческим фактам, поскольку 22 июня 1941 г. – повторимся, чтобы это еще раз отчетливо зафиксировать как итог, – речь шла «не о превентивном ударе против Красной Армии», а только об осуществлении идеологически обоснованной Восточной программы Гитлера, главной целью которой был захват «жизненного пространства на Востоке».
Zella просто Zella!

Здравствуйте!!!!! Меня зовут Зелла. Я вот пришла на ваш форум и мне тут очень понравилось. ![]()
U.D.O.



Исполнитель: U.D.O.
Альбом: Dominator
Год выхода: 2009
Стиль: Heavy Metal
Страна: Germany
Формат: Mp3 CBR 320kbps
Размер: 114MB
Треклист:
1.The Bogeyman
2.Dominator
3.Black And White
4.Infected
5.Heavy Metal Heaven
6.Doom Ride
7.Stillness Of Time
8.Devil's Rendezvous
9.Pleasure In The Darkroom (Bonus Track)
10.Speed Demon
11.Whispers In The Dark
СКАЧАТЬ:
Вольные каменщики и другие тайные обшества

Просмотрев это видео, я в принципе открыл много интересного для себя и узнал то, о чем раньше и не догадывался
http://video.mail.ru/mail/diana009/1030/193.html
Мне интересны масоны тем, что они по праву считаются последователями Тамплиеров, и в нашем современном мире играют не последнюю роль, а может быть даже и главную!
http://video.mail.ru/mail/pa3otu/1/26.html
Так кто же они? Всемирные заговорщики, как их называют или элита мира сего, в Масоны входят самые крупные и влиятельные люди, начиная от банкиров и бизнесменов, заканчивая министрами и президентами! Какие будут ваши комментария по этому поводу ![]()
Эволюция рыцарского вооружения


Нашел сразу. Вот что я когда-то использовал как источник:
Вендален Бехайм
Энциклопедия оружия
(Руководство по оружиеведению.
Оружейное дело в его историческом развитии
от начала средних веков до конца XVIII в.)

"Независимое расследование " с Николаем Николаевым.

"Независимое расследование " с Николаем Николаевым
События в Рязани 22 сентября 1999 года
Описание: В сентябре 1999 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске произошли чудовищные террористические акты. Начнем с теракта, который мог оказаться самым страшным, но был предотвращен. 22 сентября случилось незапланированное: в Рязани сотрудники ФСБ были замечены при закладывании «сахарных» мешков с гексогеном в спальном микрорайоне Дашково-Песочня.
В 21.15 водитель футбольного клуба «Спартак» Алексей Картофельников — житель дома № 16/14 по улице Новоселов, одноподъездной двенадцатиэтажки, построенной более 20 лет назад, позвонил в Дашково-Песочнинское отделение Октябрьского РОВД (районное отделение внутренних дел) Рязани. Он сообщил, что 10 минут назад видел у подъезда своего дома, где на первом этаже находится круглосуточный магазин «День и ночь», «Жигули» пятой или седьмой модели белого цвета с московскими номерами Т 534 ВТ 77 RUS. Машина въехала во двор и остановилась. Мужчина и молодая женщина вышли из салона, спустились в подвал и через некоторое время вернулись. Потом машина подъехала вплотную к подвальной двери, и все трое пассажиров начали перетаскивать внутрь какие-то мешки. Один из мужчин был с усами. Женщина была в тренировочном костюме. Затем все трое сели в машину и уехали.......
Выпуск телепередачи "Независимое расследование" (канал НТВ).
Год выпуска: 2000
Страна: Россия
Производство: НТВ
Жанр: Документальные расследования
Продолжительность: 0:47:31
Наша служба и опасна и трудна

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
№ 167 – 2009к
на право заключения государственного контракта на поставку мебели
для нужд Министерства внутренних дел Российской Федерации
Смотрим и удивляемся...
http://zakupki.gov.ru/Tender/ViewPurchase....rchaseId=471351
закладка "Документы", файл "167-2009К_КД.doc", стр.42.
Кровать с ортопедическим матрасом и решеткой. Каркас и отделка из массива европейской вишни. Декорирование шпоном редких пород дерева с применением ручного подбора и совмещения рисунка. Основа и лаковое многослойное покрытие с полировкой должны обеспечивать моделе долгосрочность службы (изолировать шпон и деревянные элементы от попадания воздуха и влаги) и устойчивость поверхностей к истиранию. Модель должны быть декорированы элементами из массива дерева с применением ручной резьбы. Декоративные элементы на изголовье и изножье кровати должны быть покрыты тонким слоем золота - 24 карата. В моделе должна использоваться немецкая, итальянская или эквивалентная фурнитура. В кровати должен быть металлический каркас в основании. Кровать должна комплектоваться двумя ортопедическими решетками из буковых лат. Кровать должна оснащаться ортопедическим матрасом. Общие габаритные размеры кровати: 1800х2000х1300.
И ещё масса всего интересного, начиная с 38-й страницы документа. Нехуёвые такие нужды у ментов в период кризиса... А уж без позолоченной кровати нынче ну совсем не работается...
-
Статистика пользователей
-
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 30 гостей (Посмотреть всех)
-
Кто был в сети 9 Пользователей за последние 24 часа